"Давайте попробуем без ремня" - звучит фраза в конце перфоманса Sense o Wrong. В нем демонстрируют разные виды насилия, многими считающиеся нормой в совеременном обществе. Мы побеседовали с участницами проекта Periculum: Дарьей Бузовкиной, Еленой Кравченко, Анной Рябовой и Мариам Нагайчук-Эль Абдаллой. Поговорили о том, как создавался их коллектив, их работа Sense of Wrong,показанная в Актовом Зале 9 июня 2012, а также о перформансе в России и в мире. Отвечает в основном Дарья Бузовкина.

Что означает название Periculum?
В переводе с латинского – «риск, опасность, новый опыт». Мне понравилось, что оно связано с риском, с новым опытом. Но в смысле риск субъективный: не такой, как прыгать с крыш или в клетку с тиграми, а субъективный риск. Это было близко мне.
Как это проецируется на танец?
Это могут быть темы, которые мы берем, например, какая-нибудь щекотливая. Это могут быть какие-то приемы с риском, которые страшно делать, например, в связи со зрителем, его реакцией, касаемо того, как существовать на сцене.
Как зародился проект Periculum? Всегда ли вы были вчетвером?
Сначала мы просто так собрались. Ко мне подошли Мариам и Лена и предложили сделать сначала классы, потом работу вместе. Я тогда подумала, что мне это интересно – сделать какую-то совместную работу. Не поставить для кого-то, а чтобы и я в этом участвовала. Я тогда пригласила еще Аню. И вот мы стали пробовать делать первую работу – «Прыжок на месте - попытка улететь». Премьера была в 2011 году, а ставить начали в октябре 2010 года. Это был проект «Счастливое детство», по названию темы, с которой мы работаем. Пока мы поработали над этим проектом, у нас возникло желание как-то оформиться.

Может быть, у вас есть черта, отличающая перформансы Periculum от других перформансов?
Я бы сказала, что есть. Это, как минимум, две основные темы, мне кажется. Первая – существование на сцене в связи с тем, что мы определенным образом работаем со зрителем. Скажем так, ни для кого не секрет, что быть на сцене - это достаточно страшно, рискованно, всякие нервы к этому прилагаются. И простой защитный способ для человека, который находится на сцене - это каким-то образом закрыть что-то такое в себе. Тем более, если тебя оценивают, если ты еще показываешь свою работу. Но парадокс заключается в том, что именно эта закрытость и блокирует контакт между перформером и зрителем, она ограничивает доступ. И вот мы работаем с этой темой. Как бы так сделать, чтобы доступ был. И второй момент – это работа с темой: какие темы мы берем и как с ними работаем. Важнее, как мы с ними работаем, а какие темы – это важно в меньшей степени.

А как вы понимаете, что перформанс получился?
Что такое «получился»? В первую очередь, мне кажется, что это мнение автора. Я куратор проекта и последнее слово за мной, я могу взять на себя смелость и решать, будет этот спектакль или не будет. С моей точки зрения, он получился. Безусловно, это не так, что я просто упрямо стою на своем. Это же общее ощущение, то есть мы все время разговариваем о том, что происходит внутри, кто как себя чувствует, у кого какие ощущения. Из этого тоже складывается работа.
Темы для перформанса вы заранее придумывали? Или они в процессе рождались?
Первая работа возникла спонтанно как следствие плотного изучения мира Психологии и Психотерапии. Вторую мы делали более последовательно. Полгода туда-сюда гоняли разные темы. Начали про мужчин, потом это вытекло во что-то другое. Это и насилием сразу не было. Мы пытаемся выяснить, что нас всех может объединить, какой интерес. Потом это вдруг во что-то выливается.

Ваш перформанс называется Sense of Wrong («Чувство, что что-то неправильно») Стараетесь ли вы с его помощью развить у зрителя чувство неправильного в его собственной жизни? Чтобы мы начали чувствовать, что что-то не так?
Скорее это перформанс о том, что вызывает чувство, что что-то не так. Я бы сказала, что это наше собственное чувство, и, конечно, мы хотели в некотором смысле поделиться этим чувством, чтобы кто-то тоже мог почувствовать, что что-то не так.
Мы берем некоторые общеизвестные темы, то есть всем более-менее знакомые. И они в некотором смысле считаются в нашем обществе нормальными.
Какие это были темы?
В итоге мы взяли тему насилия. В спектакле у каждой из нас было по отдельной работе, о разных сферах, в которых насилие может проявляться.
Насилие над детьми или любое насилие?
У Лены, например, была тема, связанная с самонасилием, привитым в детстве. Лена в детстве спортом занималась, что только способствовало самонасилию. Некое социальное бессмысленное насилие в детстве, которое приводит к самонасилию во взрослом возрасте.
Я сейчас так смотрю, у нас получается, что все темы связаны с самонасилием. Просто разный бэкграунд. У Лены – от спорта, у меня - навязанные установки, у Ани – темы, связанные с тем, как человек опускается в связи с тем, что ему не очень хорошо, и через насилие над собой он хочет прийти к счастью и гармонии. У Марьяши – самонасилие в сексуальной сфере – притворись, что тебе хорошо, когда тебе не хорошо на самом деле.

Расскажите, какие задачи вы ставили перед собой, создавая Sense of Wrong? И какими методами вы их решали?
Темы, с которыми мы работаем, они глубоко психологичные и вызывают накал, когда звучат в твоей жизни. Этот накал так или иначе транслируется на сцене. Если мы берем какую-то тему, то нам интересно сначала ее на себе проверить, переварить. А потом уже эту переваренную, извиняюсь за выражение, отрыгнуть зрителю. В хорошем смысле.
На мой взгляд, многое в перформансе относилось к детям. Но также касается и взрослых, которые постоянно друг на друга «наезжают». В какой-то мере, мне показалось, что и перформанс тоже на зрителя «наезжал». Почему этот силовой метод был выбран?
Я не знаю, это мое предположение (мы же не можем, к сожалению, опросить каждого зрителя), но я не могу с уверенностью утверждать, что он был для всех наезжающий. Темы действительно сильные, цепляющие и в зависимости от того, насколько человек сам был травмирован, для кого-то это сильно, для кого-то, может, и не так сильно. Может, кто-то вообще закрылся, потому что это для него слишком сильно, и у него все нормально. У нас не было задачи «наехать» на зрителя. Но у меня, как у человека, который конструировал действие, была, конечно, эта идея, чтобы 50 минут из часового спектакля был треш. Эти приемы достаточно очевидные: чем очевиднее будет этот треш, тем сильнее катарсис в финале, тем ярче момент облегчения, или просветления, или надежды – у кого что – тем он сильнее звучит для каждого в конце, и для нас, в том числе, тоже.
Есть ли у вас понимание, как жить без насилия и над собой, и над ребенком?
Совсем без насилия над ребенком все равно не получится, потому что воспитание – это в принципе акт насилия, потому что оно задает некоторые границы, хотя бы «где личное, где чужое». Так что, в любом случае какое-то насилие будет. Другой вопрос – как его преподнести.
А какой символ воспитания вы предлагаете вместо символа ремня? Почему применяется насилие?
Дело, мне кажется, не в словах, не в том, применяешь ты ремень, кирпич или подушку. Дело в способе взаимодействия: как ты относишься к этому существу и проявлению жизни в нем. Понятно, что проще дать по башке – и все нормально. Твое изначальное отношение к этому существу дает тебе возможность искать другие способы. Они, с одной стороны, может быть, сложнее. С другой стороны, они приводят к более жизненным и конструктивным вещам, а не к тому, что такие травматики потом ходят и их таращит всю жизнь, и потом 10 минут катарсиса, в конце.
Мне кажется, то, что действительно работает и что хотелось подать этим перформансом, это всколыхнуть память, чтобы всплыло ощущение того, как чувствовались эти приемы на себе. Когда ты помнишь, как это было нехорошо, то такие вещи ты со своим ребенком не сделаешь.
В конце перформанса звучит идея «давайте попробуем без ремня». Я помню, была метафора отношений двух людей, связанных ремнем. И вот привязки исчезли, а все равно можно взаимодействовать, куда-то повести за собой и без ремня.
Для нас и самих вопрос был – «как без ремня-то?». Там помимо смысловой, контекстной нагрузки, еще чисто физическая штука. Пока между вами есть предмет, вам есть с чем взаимодействовать. Это видно и зрителю, что внимание людей сосредоточивается на предмете. Когда предмет исчезает, вдруг образуется нечто с чем вообще непонятно, что делать. Появляется растерянность.
От воспитания детей переходим к воспитанию зрителей. Кто ваш зритель? Для кого вы делали перформанс?
Мы точно не делали это для самих себя. Безусловно, для какого-то более или менее интеллектуального зрителя. Не в том смысле, что мы какие-то заумные. Мы старались адаптировать материал к пониманию зрителем наши работы. Даже для людей, которые никогда не видели танцевальных перформансов, спектакль должен быть понятен, насколько я могу судить.
Один из главных критериев – зритель должен быть открытый, готовый переживать, способный осмыслять. Есть другая категория людей, которые, может быть, как-то развиваются, но приходят и хотят видеть определенные вещи. И если они их не видят, то могут в недоумении просидеть этот час. Восприятие связано с тем, насколько человек может чувствовать, а не только с тем, как он может обработать увиденное интеллектуально.
Ощущаете ли вы себя деятелями перформанса? Осознаете ли вы себя частью какого-то особого сообщества, существующего в России или в мире?
Опасно слово перформанс употреблять. Я встречаю людей, которые считают, что у нас не перформанс. Как классифицировать – я не знаю. У нас сейчас в России слово «перформанс» – контекстное слово, которое означает что-то необычное или отличное от…А также что-то простое и дурацкое ( зачастую). Наше действие максимально живое, и мне неважно, к чему это относят.
Насчет сообщества. У нас, мне кажется, проблема в России – некоторый развал, раскол. Лет 15 назад, когда я в эту сферу окунулась, в ней был расцвет, расширение. Сейчас современное искусство, и перформанс в том числе, пошло в массы, и немножко стало дешеветь, а тогда это было местечковые события. Были локальные сообщества в каждом регионе страны. Особенно сильные делали фестивали. Все знали друг друга, перемещались с фестиваля на фестиваль. Потом это время кончилось. Все стали делиться, расширяться, заполнять ниши. И сейчас сложно людям пересекаться, и в некотором смысле идет какое-то разобщение. И говоря про сообщества…Что ты имел ввиду под сообществом?

Я имел ввиду, что можно как-то обособленно творить, а можно развивать глобально, создавать объединения, ставить задачи шире, чем «мы сейчас сделаем работу и ее покажем».
Я не знаю… Последний раз мы обсуждали, что в связи с тем, что художники и авторы встали на свои идеологические рельсы, мы не можем договориться. И есть мнение, что художников должны объединять не сами художники, а кураторы. Мы не можем сами. Мы думали совместить что-то, встречаться, найти пространство. Но этого не получилось. В то же время сложно понять мотивацию этого человека, который стал бы это делать.
В мировом контексте мы вообще никак не существуем. Лет 15 назад был спрос на русский современный танец, много было запросов из заграницы и мы много тогда ездили по фестивалям. Сейчас спрос упал. И попасть на фестивали трудно . Не знаю, может политическая тема. Но обмен сейчас достаточно непростой .
Можно сказать, что перформанс (не только ваш, любой перформанс) использует «метод непрямого высказывания». Нет готовых ответов. Считаете ли вы, что это хороший способ общаться со зрителем?
Мы в некотором смысле предлагали зрителям ответ. Как в первом спектакле, например: «Со мной вот такое происходит. Почему? А вот потому что». Другое дело, что танец все равно остается абстрактным искусством. Для людей неподготовленных, возможно, наши движения не были понятны, хотя мы сделали много для того, чтобы работу с телом приблизить к общечеловеческому пониманию.
Мне кажется, здесь вопрос просто про средства. Поскольку мы говорим про перформанс как некое объемное искусство, то существуют разные уровни восприятия и разные уровни темы: чувства, события, факты, которые трансформирует тело. Написать статью – это тоже средство, более общепринятое, доступное, понятное. Это некий канал: я пишу статью, и я точно знаю, что ты понимаешь слова и тебе все будет ясно. По моим ощущениям, занимаясь искусством, ты объединяешь много всего. Но основным инструментом все равно остается тело. Сейчас, в наше время медийных штук, когда книги отмирают, особенно интересен живой театр. Самым ценным в спектакле для зрителя становится переживательный опыт. Но чтобы он случился, человек, который на сцене, должен что-то такое сделать, чтобы зритель тоже попал в это состояние. И в этом общем опыте мы проведем вот этот час. Поэтому последние два спектакля – это прямые высказывания.
Автор: Илья Курылев; фото: Илья Курылёв
Просмотров 3093








.jpg)
.jpg)
.jpg)
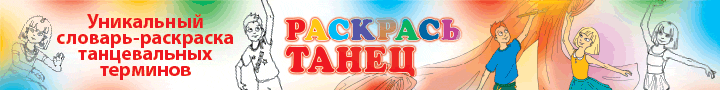



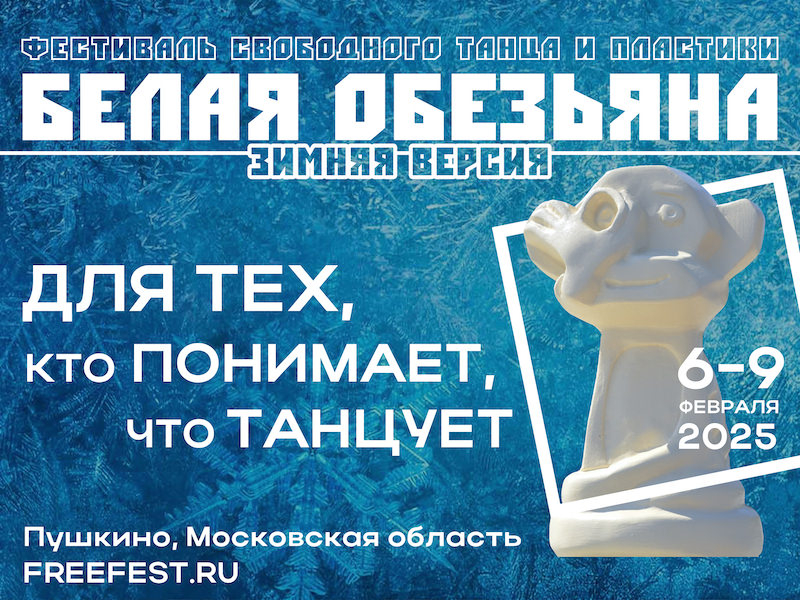
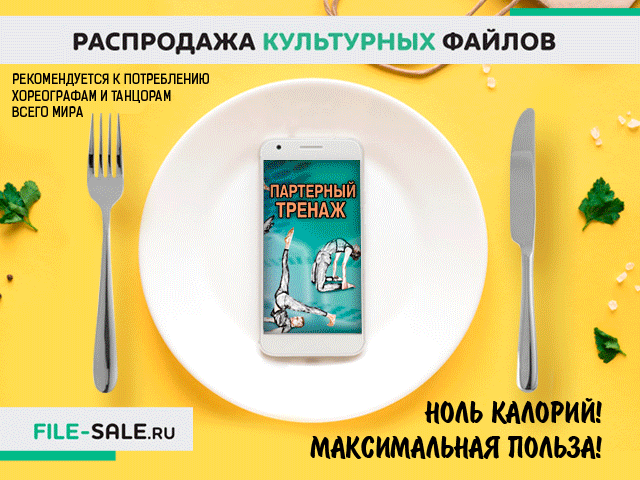



 "Мировая серия" Чеховского фестиваля 2025 года включает 13 спектаклей — всего на два меньше, чем было на предыдущем, прошедшем в 2023 году. Однако различия существенны: нынешний фестиваль сделал отчетливый акцент на экзотике.
"Мировая серия" Чеховского фестиваля 2025 года включает 13 спектаклей — всего на два меньше, чем было на предыдущем, прошедшем в 2023 году. Однако различия существенны: нынешний фестиваль сделал отчетливый акцент на экзотике. 35.jpeg) Впервые курорт Красная поляна, Сочи 960 с 20 по 26 июня стал городом танца для 2000 участников, местом коммуникации танцующих детей, их родителей, педагогов, хореографов, звезд танцевальной индустрии. Масштабный проект при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объединил представителей различных танцевальных направлений и поразил своей насыщенной программой.
Впервые курорт Красная поляна, Сочи 960 с 20 по 26 июня стал городом танца для 2000 участников, местом коммуникации танцующих детей, их родителей, педагогов, хореографов, звезд танцевальной индустрии. Масштабный проект при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объединил представителей различных танцевальных направлений и поразил своей насыщенной программой. На Новой сцене Большого театра 24 и 25 июня мировая премьера балета "Дягилев". Согласно пресс-службе ГАБТа, зрителей ожидает переплетение современной хореографии и исторического сюжета, где музыка, танец и сценография идут вслед за причудливыми перипетиями историй — истории любви, балета и искусства.
На Новой сцене Большого театра 24 и 25 июня мировая премьера балета "Дягилев". Согласно пресс-службе ГАБТа, зрителей ожидает переплетение современной хореографии и исторического сюжета, где музыка, танец и сценография идут вслед за причудливыми перипетиями историй — истории любви, балета и искусства. На сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) состоялся трехчастный гала-концерт в честь 50-летия первого танцовщика, народного артиста России Георги Смилевски, в котором вместе с героем вечера танцевали его дети и все ведущие артисты театра. "Третьей молодости" премьера-юбиляра не перестает удивляться Татьяна Кузнецова.
На сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) состоялся трехчастный гала-концерт в честь 50-летия первого танцовщика, народного артиста России Георги Смилевски, в котором вместе с героем вечера танцевали его дети и все ведущие артисты театра. "Третьей молодости" премьера-юбиляра не перестает удивляться Татьяна Кузнецова..jpg) С 20 по 26 июня 2025 года на площадке курорта Красная Поляна, Сочи 960 состоится грандиозный Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест", который проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Краснодарского края.
С 20 по 26 июня 2025 года на площадке курорта Красная Поляна, Сочи 960 состоится грандиозный Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест", который проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Краснодарского края. В театре "Урал Опера Балет" завершилась открытая для зрителей репетиция новой версии "Каменного цветка" Сергея Прокофьева по мотивам сказок Бажова в интерпретации хореографа Антона Пимонова. Премьера - уже завтра, 4 апреля.
В театре "Урал Опера Балет" завершилась открытая для зрителей репетиция новой версии "Каменного цветка" Сергея Прокофьева по мотивам сказок Бажова в интерпретации хореографа Антона Пимонова. Премьера - уже завтра, 4 апреля.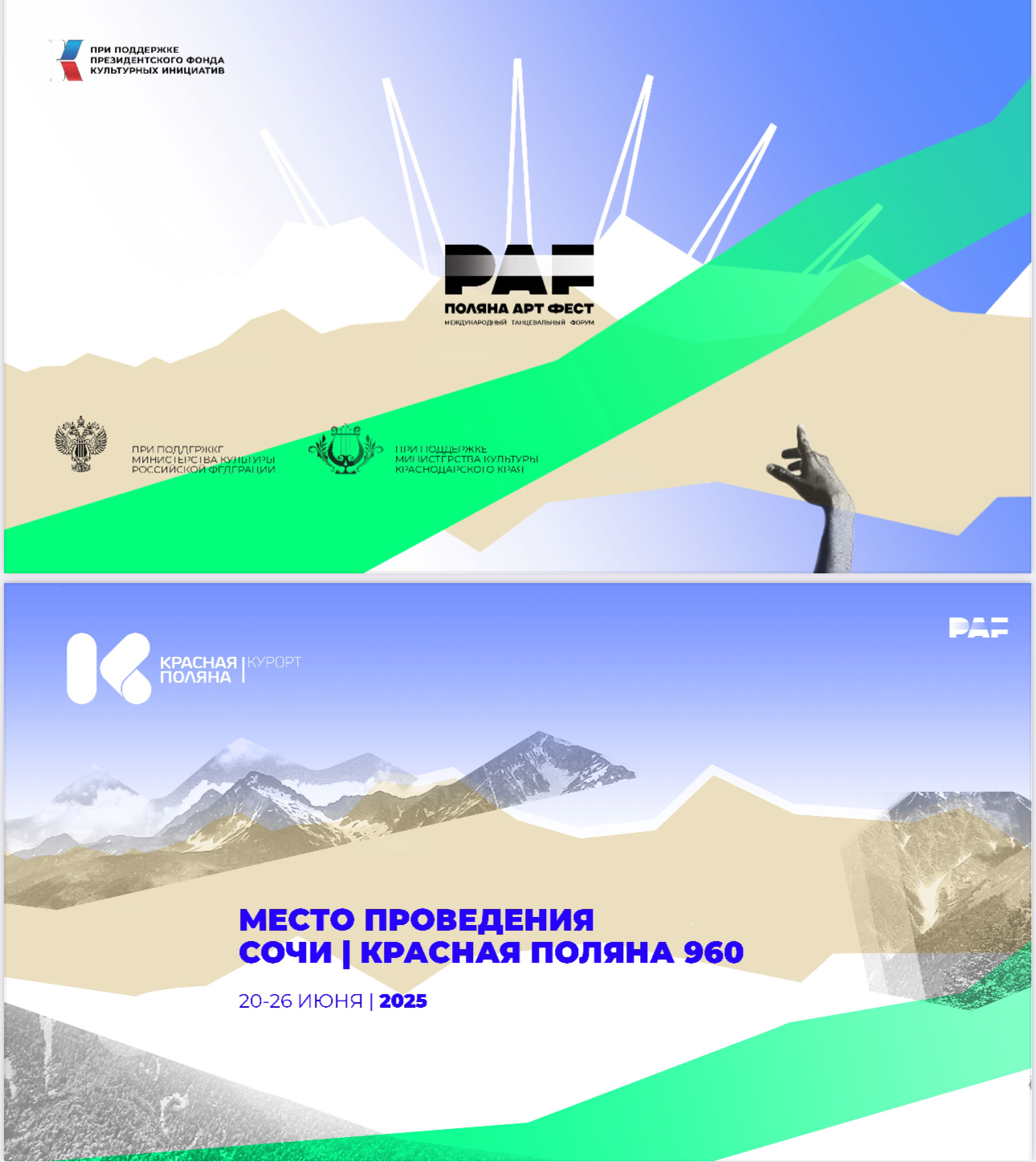 Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест
Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест Балетмейстер и художественный руководитель известного парижского кабаре "Мулен Руж" Джанет Фараон скончалась в возрасте 65 лет. По данным французских СМИ, Фараон в последнее время серьезно болела.
Балетмейстер и художественный руководитель известного парижского кабаре "Мулен Руж" Джанет Фараон скончалась в возрасте 65 лет. По данным французских СМИ, Фараон в последнее время серьезно болела.  IV международный фестиваль «Балет на Байкале. Бурятия-2025» стал поистине грандиозным событием этого лета. В течение двух дней, 18 и 19 июля, на живописном берегу Байкала царила неповторимая атмосфера
IV международный фестиваль «Балет на Байкале. Бурятия-2025» стал поистине грандиозным событием этого лета. В течение двух дней, 18 и 19 июля, на живописном берегу Байкала царила неповторимая атмосфера.jpg) Бачата как детектор лжи: Как танец вскрывает подавленные эмоции за 1 вечер (и что с ними делать)? Как телесно-ориентированный психолог, я вижу то, что скрыто годами в человеке. И да, это может случиться с вами на первом же занятии.
Бачата как детектор лжи: Как танец вскрывает подавленные эмоции за 1 вечер (и что с ними делать)? Как телесно-ориентированный психолог, я вижу то, что скрыто годами в человеке. И да, это может случиться с вами на первом же занятии.92.jpg) Через месяц площадка курорта Красная поляна, Сочи 960 превратится в город танца, станет местом коммуникации танцующих детей, их родителей, звезд танцевальной индустрии. С 20 по 26 июня 2025 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, при информационной поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Краснодарского края, пройдет Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест".
Через месяц площадка курорта Красная поляна, Сочи 960 превратится в город танца, станет местом коммуникации танцующих детей, их родителей, звезд танцевальной индустрии. С 20 по 26 июня 2025 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, при информационной поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Краснодарского края, пройдет Международный танцевальный форум "ПолянаАртФест". "Танцы, конечно, танцы!" — такой ответ услышит каждый второй родитель на свой вопрос: "В какой кружок отдать дочку?" Хотя… почему дочку? Танцы — это один из самых любимых видов физической активности как детей, так и взрослых — независимо от пола, возраста и темперамента. Занятия танцами помогают не только приятно провести досуг, но и способствуют физическому и эмоциональному развитию.
"Танцы, конечно, танцы!" — такой ответ услышит каждый второй родитель на свой вопрос: "В какой кружок отдать дочку?" Хотя… почему дочку? Танцы — это один из самых любимых видов физической активности как детей, так и взрослых — независимо от пола, возраста и темперамента. Занятия танцами помогают не только приятно провести досуг, но и способствуют физическому и эмоциональному развитию. Инклюзивный бал как явление зародился в Самаре в 2014 году, в Москве же, такие праздники проводятся раз в году, начиная с 2022 года. Это возможность сделать людей с инвалидностью чуточку счастливее и здоровее — общение и взаимодействие дарит счастье и уверенность.
Инклюзивный бал как явление зародился в Самаре в 2014 году, в Москве же, такие праздники проводятся раз в году, начиная с 2022 года. Это возможность сделать людей с инвалидностью чуточку счастливее и здоровее — общение и взаимодействие дарит счастье и уверенность. Легендарный танцовщик Владимир Васильев встретил свое 85-летие новым "Лебединым озером". Про его танец писали: живописует телом, когда летит - это поэзия, порыв духа. В его живописи присутствуют те же движение, динамика - которые видны сегодня в любых позе и жесте мастера, когда он что-то показывает танцовщикам...
Легендарный танцовщик Владимир Васильев встретил свое 85-летие новым "Лебединым озером". Про его танец писали: живописует телом, когда летит - это поэзия, порыв духа. В его живописи присутствуют те же движение, динамика - которые видны сегодня в любых позе и жесте мастера, когда он что-то показывает танцовщикам... Ведущая балерина Мариинского театра, звезда "Русских сезонов
Ведущая балерина Мариинского театра, звезда "Русских сезонов Шоу-программа – это уникальная танцевальная дисциплина, которая позволяет танцорам примерять на себя разные роли и демонстрировать сразу несколько стилей в одном танце. Сейчас танцевальные шоу популярны в медиапространстве в формате видеоклипов, набирают обороты соревнования среди профессиональных пар.
Шоу-программа – это уникальная танцевальная дисциплина, которая позволяет танцорам примерять на себя разные роли и демонстрировать сразу несколько стилей в одном танце. Сейчас танцевальные шоу популярны в медиапространстве в формате видеоклипов, набирают обороты соревнования среди профессиональных пар. - Господи, как я волновалась! Меня так трясло, что боялась, как бы дрожь не заметили в зале. Но потом взяла себя в руки. Подумала: я же ради этого все затевала. Полгода тренировок и репетиций. Ну а раз назвалась балериной, то вперед на сцену.
- Господи, как я волновалась! Меня так трясло, что боялась, как бы дрожь не заметили в зале. Но потом взяла себя в руки. Подумала: я же ради этого все затевала. Полгода тренировок и репетиций. Ну а раз назвалась балериной, то вперед на сцену.